A Little Life

Текст Мария Кувшинова

22/II·2016 г. Запрудное. Письменный стол Николая Козакова.
В „Трофиме“, новелле Алексея Балабанова из киноальманаха „Прибытие поезда“ (1995), крестьянин, зарубивший брата, бежит из деревни в город
и случайно попадает в объектив камеры, установленной на перроне французом-оператором, посланником Люмьеров. Спустя сто лет пленку находит ассистент режиссера, работающего над фильмом „Вокзалы Петербурга“, но Трофим — существо, за агонией которого мы наблюдали двадцать минут, оказывается досадной помехой и вырезается при монтаже. Его изъятие из небытия долго оставалось потенциальным, но сорвалось, не состоялось; камера беспристрастна, а это значит, что она гуманнее, чем человек.
С дневниками Николая Козакова произошло ровно противоположное: благодаря сложению человеческих усилий текст и его автор были проявлены после смерти, как чудом уцелевший негатив. Немедленная ассоциация с кино неслучайна: шестидесятые — высшая точка в истории мирового кинематографа, в нашей стране это время расцвета сценарной прозы. Козаков смотрит много фильмов, его восприятие и тексты заражены кино в том же смысле, в котором им была заражена проза Хемингуэя или Дос Пассоса; он пишет как будто уже
с расчетом на экран: „Я вскинул фузею, но заяц мелькал среди сосенок. Вовка грохнул, и оба, что зайцы, пустились за беглецом. Когда я выскочил на чистое, косой был уже метрах в 100, не меньше, внизу. Я приложился. Серо-рыжий комок плясал на мушке. Отрывисто треснул выстрел. Заяц скакнул в промоину, вылез и пошел на гору. Я приложился вторично. Отчетливо лязгнул курок. Плечо, готовое принять отдачу, напряглось впустую“.
Однако, в отличие от вымышленного Трофима, у реального Козакова нет собеседника, свидетеля и интерпретатора — того, кто удержит фигуру автора
от ускользания; записывая каждый свой шаг, он остается непознаваемым, как космос, покорению которого уделяется так много внимания в записках. Кто он? Человек 1960-х годов? Люмпен-интеллигент? Старший брат твоего отца? Антисемит? Неудачник? Поэт? Инопланетянин? Дневник явно не предназначен другим читателям, Козаков пишет его для самого себя — и остается в своих текстах абсолютно герметичным, обнажая для читателя принципиальную и трагическую непроницаемость Другого. Сам тип отношений Козакова с реальностью сегодня уже невоспроизводим и кажется посланием в бутылке, отправленным не пятьдесят, а пятьсот лет назад: десятки часов и дней уходят на коммуникацию, на ожидание писем, ответов, автобусов, поездов, на починку транспорта, на дорогу — автор описывает территорию с чрезвычайно низкой связанностью (она антигуманна поэтому, а не из-за своей идеологической враждебности человеку). Сюжетные линии дневника оборваны: мы никогда не узнаем, зачем именно он пишет все это, увидит ли он снова свою харьковскую возлюбленную Лилю Канцедал — мы даже не понимаем, в чем именно заключается работа Козакова, кроме бесконечного ремонта машины
и преодоления бездорожья.
Лишь дважды на протяжении 1962 года вихрь событий подхватывает автора,
как кузнеца Вакулу у Гоголя, перенося из однообразной провинциальной среды
в до абсурдного неожиданные миры: в Москву, в ресторан „Метрополь“,
за стол к американцам, с которыми он вдруг разговаривает на сносном английском, а потом в Харьков, в институт знаменитого профессора Дубровского, где его безуспешно лечат от заикания. Оба путешествия описываются Козаковым в той же бесстрастной манере, что и будни деревни Кадницы — тем более фантастическими, внезапными и кинематографичными они кажутся читателю. И тем отчетливее обозначают место, которое автор определяет себе на карте мира: Козаков как будто не догадывается, что живет
в провинциальной деревне, за железным занавесом, и с легкостью вставляет
в текст английские выражения, смотрит голливудские фильмы, не делает разницы между публикацией в местной газете или в столичной прессе, предполагая в шутку, что в соседнее сельпо вот-вот заявятся американские журналисты-разоблачители.
Герметичный для читателя, для самого себя он разомкнут и открыт большому миру, оставаясь при этом маленьким человеком, никем — тем, кто не должен свидетельствовать, но все-таки свидетельствует вопреки. Уязвленный женщинами, он не пытается восстановить патриархальную власть над ними, ровно наоборот: спасаясь от притязаний бывшей жены, Козаков готов объявить себя импотентом, без труда выключая себя из игры в доминирование. Его существование так монотонно и так подолгу лишено событий, что превращается в чистую, лишенную индивидуальных черт экзистенцию — это она (а не сотни удивительных деталей) в процессе чтения затягивает, как бездна.
1962. ЭПИЗОДЫ
ФОТОГРАФИИ
Следы деятельности животных
Доброкачественные дубликаты
О дневниках Н. Козакова
Магазин
НИКОЛАЙ КОЗАКОВ. ДНЕВНИК. 1962
Звукорежиссер К. Глущенко
Диктор Ю. Ковеленов
Редактор К. Чучалина
Технические редакторы: Г. Атанесян, Т. Леонтьева
Звукооператоры: С. Авилов, Р. Хусейн
Арт-директор К. Глущенко
Иллюстратор А. Колчина
Дизайнеры: А. Глушкова, А. Московский
Сайт разработан на платформе Verstka.io
NIKOLAY KOZAKOV. DIARIES. 1962
Director K. Gluschenko
Speaker Y. Kovelenov
Editor K. Chuchalina
Technical editors: G. Atanesian, T. Leontyeva
Recording engineers: S. Avilov, R. Khuseyn
Art Director K. Gluschenko
Illustration A. Koltchina
Designers: A. Glushkova, A. Moskovsky
Site was developed with Verstka.io
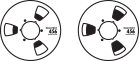
Запись произведена на пленку Quantegy на 24-дорожечном аппарате Studer A820 с использованием
микрофона Neumann U67.
Recording is made on Quantegy tape with 24-channel
Studer A820 using Neumann U67 microphone.
© ГЛУЩЕНКОИЗДАТ, 2016–2017
Студия звукозаписи „Параметрика“. Запись 2016 г.
Проект подготовлен совместно с фондом VAC
в рамках выставки „Прекрасен облик наших будней“
Заказ № 153. Москва, Северное Чертаново, 2017 г.
Order № 153. Moscow, 2017
© GLUSCHENKOIZDAT, 2016–2017
Recorded in Parametrika Studio in 2016
The project was prepared jointly with the VAC Foundation within the framework of the exhibition
"Our Days Are Rich And Bright"
