ЭПИЗОД СЕДЬМОЙ
НОЯБРЬ
Кадницы — Кстово — Горький
Казаков достает ружье и готовится к осенней охоте. Когда надежда на ответ от Лильки уже почти умирает, приходит ее длинное письмо. Он пишет лирическое стихотвроение и отправляет в газету „Соцiалiстична Харкiвщину“, чтобы Лилька увидела. Мечтает о работе в Гасан-Кулийском заповеднике на Каспийском море, о котором прочел в журнале „Вокруг света“ — „там тепло, вот в чем дело“.
ПОДПИСАТЬСЯ
ПОДПИСАТЬСЯ
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
36 мин. 14 сек.

1962. ЭПИЗОДЫ
1 ноября 1962 г. Четверг
с. Кадницы
Погода уже испортилась. Хотя и тепло, но начались осадки. Дождь шел еще вчера вечером, и сегодня несколько раз. Стало грязновато. Дул S.
Встал я без пятнадцати десять. Умывшись, стал завтракать. Съел жареной картошки, чаю выпил. Мама тут уже ушла, и я стал вытаскивать и разбирать свое охотничье снаряжение, чтобы уложить в для этой цели сделанный чемодан. Выяснилось, что пороха́ у меня уже просрочились — они 1956 и 1958 гг., а сроки хранения — четыре года. А выбрасывать жалко — одна банка 200 г непочатая, и в 100-граммовой еще немного.
Я достал книжку Маркевича, крупного, видимо, специалиста по оружию — „Охотничьи боеприпасы“. Там сказано, что бездымные пороха вполне пригодны в течение 10–12 лет в условиях комнатного хранения. Так что буду стрелять.
Только старые патроны надо будет разрядить и зарядить заново. И пристрелять хорошенько ружье — какие заряды самые лучшие. Я пристреливал его давно еще, но надо снова. Штук 15–20 патронов лучше испортить, но добиться наилучших результатов.
Возясь со всем этим делом, обнаружил в столе, за которым обедаем, пять пачек фотобумаги, из них две вовсе нетронутых, и патроны с проявителем и фиксажем. Это с 1957 г., когда у меня был последний расцвет занятий фотографией. Надо будет отдать их Кольке Суханову, может, еще годятся. Там же нашел конверты с негативами 1953–1954–1957 гг. Посмотрел некоторые. Как это давно все было… Все изменилось, а фотоэмульсия все еще хранит следы прошлого. Было даже несколько штук еще толбинских негативов, сделанных из блаженной памяти „Комсомольца“ в 1948 г.
Так я возился, вороша годы. Около часа сходил за обедом, позвал маму, и стали обедать. После этого опять продолжал заниматься со снаряжением, больше читая книжку Маркевича и замеряя диаметр дроби, чтобы определить номер. Что-то всю пришлось на номер уменьшить против старой спецификации. Уложив все в чемодан и убрав, стал чинить патронташ, у которого протерлись крайние гнезда, и я уже потерял штуки три патронов. Сделав это, стал писать дневник за вчера,
т. к. уже было около 4 ч. или больше. В половине шестого сходил за ужином. Были котлеты. Поели, и я продолжил писать. Кончив, посидел так, почитал „Знание — сила“. Что-то опять захотелось есть, и в конце десяти мама поджарила гренков, я выпил две кружечки чая с ними. Читал журнал, слушал радио. Опять возобновилась блокада Кубы. Дописав дневник, в половине одиннадцатого лег спать.
ФОТОГРАФИИ
Следы деятельности животных
Доброкачественные дубликаты
О дневниках Н. Козакова
Магазин
6 ноября 1962 г. Вторник
с. Кадницы
День совершенно безоблачный, но все же холодный. Ночью был сильный мороз и выпал иней, который потом растаял, и было скользко и сыро, но потом высохло. Солнце грело хорошо, но за солнцем, повторяю, прохладно. Ветра нет.
Встал в 9 ч. Умывшись, стал завтракать. Потом побрился. Взял новое лезвие и весь изрезался, как поросенок. Настроение с самого утра было мерзкое. Ни о какой поэзии не могло быть и речи. Я сидел на стуле посреди комнаты, надутый, как сыч, уставясь в одну точку. Так бездарно прошел день до обеда. Я собирался во второй половине дня ехать в Кстово — узнать, нет ли письма от Лильки, и отправить письмо комиссару. Но сперва все-таки следовало пообедать. Я сходил на кухню. Мама сидела в бухгалтерии, чего-то писала, и я обедал один.
Минут без пятнадцати час я вышел из дома в Запрудное. Взял с собой на всякий случай сберкнижку, документы и, конечно, письмо харьковскому полицейскому атаману. Уповал на солнце, пошел в ботинках без калош, но местами было весьма сыро. А под лесом, в тени, все еще летал иней. У леса, на поляне, где мы раньше всё сиживали, бывало, с Сухановым и Голованцом или Лоскутовым, стояли, выстроясь в ряд, две „Волги“ и „Победа“. Курился костер. Ребятишки бегали. Да, у этих, конечно, полная жизнь. Их можно снимать в хрущевском кино и писать в газеты. Сняли бы меня…
Когда я стал спускаться к Запрудному, увидел, что у автостанции стоит ЗИС-155,
т. е. кстовский, т. к. больше таких автобусов тут нет. Я припустился и порядочно бежал собачьей рысью. Выскочил напрямик на трассу. Шел еще „Икарус“, но полный, и даже стояли. Я уже шел навстречу, когда автобус пошел, но шофер видел, что идет эдакий презентабельный джентльмен, ехал тихо и посадил меня. Места еще были. Ехали запрудновские ребятишки — Витька Чупрунов да Борька Чадаев. Я пока сел, но уже у Борка пришлось посадить с ребенком, и вообще налезло полно клиентов крематория. Сел также и один друг, Славка Тараканов из Выездного, мы с ним всё разговаривали. Он работает в Горьком, хочет покупать автомобиль — разбитый „Опель“ за 200 руб. За разговором незаметно доехали. Со вчерашнего дня открыли движение по мосту (после того, как тут побилось до черта машин), и выезд на старый засыпали.
В Кстово мы приехали минут в 15 третьего. Я сразу сел в городской автобус — ехать в Ст. Кстово в сберкассу. Приехал туда, но оказалось, что она закрыта. Тогда пошел в контору связи — спросить, не попало ли сюда харьковское письмо. Но нет, не попало. После этого вернулся к раймагу и поехал опять в то Кстово, на почту. Мне казалось, что она до трех на обеде, но сегодня, видимо, без обеда, т. к. была открыта. Я предъявил паспорт и припас уже письмо — мол, скажут „нет“, и я отдам заказным. Вдруг, смотрю, из пачки положила мне в паспорт конверт. Вот, говорит. Посмотрел — от Лильки! Значит, напугал я ее все же милицией.
Когда стал распечатывать, коленки затряслись. Переведя дух, вскрыл конверт.
Ну, пишет всякую херню. Опять просит прощения, говорит, что проверяла себя, что я очень хороший человек, но полюбить просто так она не может, т. к. меня не знает, а по письмам многого не узнаешь. В этом она, конечно, права. Жаль, говорит, что большое расстояние мешает нам поговорить с глазу на глаз.
Но все-таки ты очень милый человек. За что, говорит, ты меня любишь? Ты меня не знаешь, видел один раз, и я принесла тебе столько обиды и разочарования. Может, говорит, я осознаю, что ты заслуживаешь большого чувства, но сейчас не знаю, что со мной. Скажи же, что нам делать? Самое главное, что я боюсь причинить боль твоей девочке. Я, говорит, хочу, чтобы мы остались большими друзьями. Неужели ты не можешь меня забыть? Напиши, говорит, обо всем. Ну и вот так. В таком, как говорится, разрезе.
Я читал и начинал улыбаться. Все-таки судьба не оставила меня без праздника.
Что-то маленькое, но было и у меня.
Прочтя письмо, засунул письмо комиссару поглубже в карман и пошел на автостанцию. Ну что же, действительно, делать? Решил так: буду ей писать, пускай не враз, но с той целью, чтобы уехать в Харьков. Как она отнесется к этому варианту. Не обязательно к ней, чтобы быть любовником, но чтобы вообще быть ближе друг к другу. Хер с ними, с Файкой мне все равно не жить, может, тут чего выйдет. А нет, так один хрен сдыхать‑то. В общем, после праздников напишу. Только если она опять в такую волокиту будет играть… Я уже решил так, что в случае чего Новый год я должен встречать в Харькове.
Пока рассуждал, пришел на автостанцию. Автобус шел в 15.35, было 15.10. Я пошел на перекресток. Там ходил грозный фараон. Я встал поодаль. Минут через 5 появился ГАЗ-63. Кабина была свободна. Оказался из Работок, с молокозавода. Я поднял руку и забрался в кабину. Шофер был свой в доску, Ленькой звать, только фамилию забыл. Всю дорогу болтали. С новым мостом-то благодать, без задержки — 20 мин. ехали. Без двадцати четыре я вылез у Запрудного. Давал ему 30 коп., но Ленька с возмущением отверг. Значит,
есть еще совесть у русских. Я похромал домой.
Уже за лесом впереди на дороге увидел зверька. Лиса, мол, однако. Зверь подпустил меня метров на 70 и побежал в поле. Хвост длинный, пушистый, сам рыжий — лиса, да и только. В поле села метрах в 50 от дороги. Я орал, свистел, манил, маячил ей руками — она смотрела, но никуда больше не шла. Я прошел — она вернулась на дорогу и побежала к Запрудному. Если лиса — зачем дорогой бежит? Если собака — зачем человека боится?
Домой я пришел минут в 20 пятого. Надо, мол, сходить к Кольке Суханову.
Пошел, но их никого не было — в кино ушли. Только внизу сидели Анна Павловна и Павлушка. Я присел тоже подождать. Те Сухановы пришли минут в 20 шестого. Я Кольке замаячил — мол, как насчет промочить горло? Да, слышь, не против. В скором времени мы побежали в магазин. Там была косорыловка, водка „Московская“ и 50 %, шампанское и „шипучка“ — по 2 руб. 20 коп. Решили взять „шипучки“ и четверку водки. Также взяли банку хрущевского витамина — морской капусты, и селёдину. У Сухановых был тесть, пришлось потчевать и его, но он старик ничего, компанейский и настроенный против социалистического режима. Впрочем, до выпивки еще Колька показывал сыну диафильмы, и я посмотрел. Водка хоть и была всего четверка, но пить пришлось дважды, и что-то такая она поганая, жуть. Однако выпили. Закусили, за неимением крабов, ламинарией. Благодать, сплошной йод. Однако базедовой болезнью не заболеешь. Как и водится, стал прославлять существующий строй, мудрость Акулы, отстоявшего мир, и невероятное изобилие. Хлеба-то уж больше 2 кг не дают, считают, сколько взял. Зато одна Федерация 2 212 000 000 пудов дала. Слава тебе, господи!..
„Шипучка“ была, конечно, не то, что шампанское, но ничего. За два целковых больше требовать нельзя. Мы выпили, посидели еще, и в 8 ч. я собрался домой. Колька проводил меня. Я звал его завтра приходить. После обеда он, может,
уйдет в затон, а утром хотел прийти. На мотоцикле сьездим тогда в Кстово, опохмелимся. Придя домой, я взял дневник и пошел в бухгалтерию, а то мама стирала. Помог ей развесить белье. В 11 ч., покончив с дневником, немного пожевал, попил чайку. В половине двенадцатого отправился в объятия… не Лильки, нет, — Морфея.
12 ноября 1962 г. Понедельник
с. Кадницы
День пасмурный, дует весьма неприятный ветер откуда-то с восточных краев. Морось. Иногда летела какая-то пакость. Бр-р-р!..
Встал без четверти девять. Очень не хотелось, и мама уговаривала еще поспать, но я переборол мелкобуржуазные инстинкты и героически поднялся. Стал умываться и завтракать. В половине одиннадцатого мама подняла якорь, и я взялся за стихи. Тщательно просмотрел строфы, обнаружил, что в основном оставить так, только явно не хватает строфы на пятое место. Придумать подходящее, и баста. Будет восемь строф, всё логически связанное друг с другом. Для начала я выписал все четверостишия по порядку, оставив одно пустое место, и стал править.
Много поправлять не пришлось, так, в основном, они все были уже обтесанные. На четвертое место у меня было три варианта, и, подтесав, я получил вполне приличное сочетание знаков: „Милая, сердце открой, в светлую даль посмотри: счастье там ждет нас с тобой в блеске весенней зари!“ Потом стал думать над несуществующим пятым. Ценой не очень страшного раздумья и сотворил нечто подобное: „Что ж ты потупила взор, видя неловкость мою? Ведь никому до сих пор не говорил я: «Люблю!»“ Только, пожалуй, следовало поставить не „неловкость“, а „робость“ — оно поприличнее. К обеду стих был готов. Я побежал на кухню, принес вареных макарошек. Поели, и в третьем часу я взялся за новое дело — писать сопроводительное письмо в редакцию „Харкiвщини“, куда я так и решил отправить свое лирическое детище, и… в Гасан-Кули!
На днях я прочел в „Вокруг света“ крохотную заметку о Гасан-Кулийском заповеднике, на восточном берегу Каспийского моря у иранской границы. И решил написать туда, не нуждаются ли они в такой личности, как я. Там тепло, вот в чем дело. Кизыл-Атрек рядом, а там финиковые пальмы плодоносят, кактусы, слышь, что лопухи растут.
Набросав черновики обоих казенных писем, я стал писать Лильке. Мол, следи за газетами, посылаю туда стихи, которые создал только благодаря твоему письму. Написал также, как провел Октябрьскую и как вообще живу. Что-то сегодня я писал ей просто как родной. Черт знает что! Вот думаю об ней, думаю, и кажется, что у нас с ней обязательно получится. Какая-то не то что уверенность появилась, а подсознание какое-то ежедневно твердит об этом. Я боюсь поверить этому, боюсь успокоиться, отдаться во власть интуиции. Объективно взвешивая данные „за“ и „против“, беспощадно сокрушаю все эти робкие надежды. А в сердце опять что-то говорит против, и появляется самонадеянность и сладкое успокоение.
Написав ей, я запечатал письмо и пошел к маме за машинкой. Просмотрел еще черновики своих дипломатических писем, поправил и стал печатать. Копию — себе на память. Не успел кончить оба, пришлось идти за ужином. Были котлетки. Поели, попили чайку, я забрал машину и все барахло и пошел в бухгалтерию. Окончил письмо в „Соцiалiстичну Харкiвщину“, не скрыв причины, почему посылаю им, — мол, девушка тут есть, может, прочитает.
Не знаю, напечатают или нет. Конечно, надо бы, потому что вроде гость Харькова, к тому же влюбленный. Затем стал печатать стихи. Проверил черновик последний раз, но придраться вроде было не к чему. Заложил в машину бумагу и принялся стучать. Делал две закладки на три штучки, т. е. шесть экземпляров. Один оригинал запечатал в конверт харьковчанам, один положил себе в свой сборник. Копии —
на свое место. Закончив с печатью и письмами, убрал все и стал писать дневник. Этим делом занимался до 10 ч., после чего пошел выпить еще кружечку чайку.
Завтра поеду в Горький, отправлю корреспонденцию, поищу хорошей бумаги и тетрадей, схожу, может, в милицию — помогайте, мол. Вообще, что делать с работой — не знаю. Рассчитывать на Харьков нечего, тем более на Гасан-Кули, конечно. Было бы безрассудством сидеть разинув рот и ждать, когда тебя пригласят. А как бы хорошо было уехать в Харьков! Ох, боже мой! Своя она
какая-то уж сделалась мне, хренова хохлушка, черт бы ее побрал!
30 ноября 1962 г. Пятница
с. Кадницы — г. Горький
Было, наверно, около нуля, но утром все же ничего. Осадков не было. Дул SW.
Встал в 6 ч. Умылся, выпил пару кружек чая с гренками, оделся в китайскую куртку и пошел в Запрудное. Было еще сильно сумеречно. Впрочем, вышел я уже в начале восьмого. Дорога прескверная, потому что после грязи как замерзло, и образовались эти кочки. Да присыпало их еще немного, скользкие стали
какие-то. В Запрудное пришел чуть к восьми. Почти сразу мне повезло, и я сел в бензовоз до Кстова. Доехали хорошо. У шавского моста подъезд с нашей стороны засыпают щебнем и асфальтируют. В Кстово я приехал около половины девятого. Сразу же пошел на почту. Прихожу — закрыто. С девяти. Я было хотел ехать в Горький, но потом сообразил, что не стоит из-за получаса уезжать,
т. к. должно быть письмо. А пока надо сходить в парикмахерскую и еще раз поскоблить лысину. Так и сделал. У парикмахерской встретил парня из Воротынца, тоже глунцовского протеже, который все ездил устраиваться на нефтезавод
(дн. № 51, стр. 424). Прописался, говорит, в Вишенках, а на работу не берут — специалист сельского хозяйства. Посоветовал, если не устроюсь, тоже прописываться в Вишенках — там легче в новых домах, на которые еще нет домовых книг. Прописывают, говорит, всех, только договориться с хозяевами.
Затем я пошел в парикмахерскую, где скучавший мастер тотчас взял меня в оборот. Оскреб меня и сблатовал, падло, сбрызнуться одеколоном. В результате окарнали на 45 коп.
Сияя свежей лысиной, я пошел на почту. Паспорт опять не предъявлял. Старуха долго копалась в пачке, и у меня уже неприятно дрогнули ноги. Но последнее письмо оказалось мое. Я сел на круглую табуретку и стал читать. Лиля пишет,
что вспоминает меня, что теперь, после отъезда, я рядом с ней, что я хороший человек и что она жалеет, что так поступала тогда, когда я был рядом. Коснулась Файки — мол, „жестокая“. Мне, говорит, кажется, что ты должен сделать все возможное, чтобы навсегда расстаться с ней. Я это понял как оформление развода. Одиночество — страшная вещь, пишет, мы взрослые люди и рано или поздно должны заговорить серьезно об этом, если только у тебя серьезные намерения… Неужели, говорит, я не имею права быть счастливой? Я хочу счастья без пороков и грязи, и я дождусь его. Я боюсь потерять тебя. Я, говорит, верю тебе. Письма велит посылать до востребования, а то кто‑то вскрывает.
Чего бы, казалось, мне больше надо, если она боится потерять меня? Но нет такой сильной радости. Неверие, что ли. Все кажется, что достаточно мне потерять голову, как окажется, что все это болтовня и пустые разговоры. Кто она, кто? Отчаянная проститутка, которая обрадовалась слабой возможности выйти замуж? Так ведь Харьков огромен, можно и там подыскать более подходящего жениха и сойти за девушку. Или я действительно ей нравлюсь? Но чем тогда? Столько у меня пороков, и серьезных — старше ее значительно, заикаюсь, женатый и отец притом. А достоинств — некоторая эрудиция, интеллигентность и все. Ни дома, ни квартиры, ничего. Вот это непонимание ее меня больше всего и угнетает. Возможно, я разучился видеть в людях хорошее и во всех человеческих проявлениях ищу только материальную заинтересованность. Хорошего-то я, конечно, и не видел ни у кого. И тем более кажется дико такое явное несоотношение, как в нашем случае. И мое отношение к ней тоже странное. Сердцем — люблю, мозгом — ищу всевозможные отрицательные черты, безжалостно критикую и ее, и себя, что связался с ней. Но она такая хорошенькая! А какая она внутренно? По крайней мере, несерьезная. Я убеждался дважды в этом. Как бы не пришлось и трижды. Когда я ее пойму — не знаю. Надо ждать… Если я убежусь, что все мои сомнения и опасения необоснованны — по всей вероятности, я буду счастлив. Но ведь совсем недавно она писала, что не может полюбить меня просто так, хоть я и чудесный человек. Вот они — противоречия. Когда кончатся все эти переживания, все думы и все прочее? Мне тоже, как и Лиле, хочется быть счастливым. С ней…
Прочитав письмо, я пошел на автостанцию. Скоро шел добитый „Икарус“. Я взял билет, залез. Поехали. Светило солнце, грело через стекла. В Горький приехали около половины одиннадцатого. Я слез у консервного завода и сел на „Каросу“ — ехать на автозавод. Решил сперва съездить на станцию перегона автомобилей — может, мол, там возьмут без прописки, раз все равно слоняться по команди-ровкам. Взял билет за 12 коп., взгромоздился на самое первое кресло рядом с водителем. Но уже на ул. Минина меня оттуда согнали. Все же большую часть пути мне удалось посидеть.
Не зная хорошенько, где станция, я проехал далеко и, слезши у поворота в аэропорт, стал спрашивать. Велели ехать назад трамваем. Станция оказалась далеко от автозавода и совсем близко от Виктора Мурахтанова. Это было серенькое деревянное строение. Я полез туда. Первая дверь была отдел кадров. Пожилой мужик шевырялся в здоровенном ящике с трудовыми книжками. Я вежливо поздоровался и спросил, не берут ли они шоферов. А где, говорит, вы работаете? Нигде, мол. А где работали? В Азии, мол, на трубопроводе. А живете где? Прописка-то вот, говорю, у меня кстовская. Не возьмем, говорит. Только городских берем, и то предпочтительно с автозавода. Я попросил хотя бы обрисовать положение. Добрый дядя обрисовал. Оклад на легковых 55–58 руб.
(не помню), на грузовых — 63 руб. плюс командировочные. Выходит всего рублей 100–120. Маловато, конечно. Зато алиментов меньше удержат — с командиро-вочных не берут. И машины всю дорогу новые. И насшибать, чай, можно на хлеб-то дорогой. А самое главное — интересно. Увидишь много. И к Лильке, возможно, можно было бы попасть… Я бы пошел туда охотнее, чем на автобус. Но сперва надо прописаться. Оттуда я дошел до Виктора — там метров 600–700, но его не было. Парень один сказал, что он в школе, придет в 2 ч. А было двенадцать.
Я решил сходить в поселки у Оки, где, как говорила Зинка Силантьева, есть (была, вернее) свободная комнатка. Ул. Баумана, 13. Остановка автобуса „Вайгач“ (!) Я прошел пешком через сад на угол ул. Успенского и Нахимова, где ходят 3-й трамвай и автобус № 7. Туда надо ехать на седьмом. Я чуть было не уехал в противоположную сторону, но сообразил. Кондукторшу попросил сказать,
где „Вайгач“. Падло обещала, но трепала языком с парнями, и я опомнился уже у управления железной дороги. Я высказал ей неудовольствие, она отказалась от всего. Вот скотина! Я плюнул и пошел обратно. Может, мол, где недалеко. Спрашивал всех — никто не знает. Ехать опять на автобусе — только перевод деньгам. Наконец одна женщина сказала, что надо проехать на трамвае три остановки, а там рядом. Приехал — опять никто не знает. Нет-то нет, один мужик велел идти „вон туда“. Я пошел. Там еще одна молодица меня настрополила. В общем, оттопал я километра два, не меньше, прежде чем нашел. По этой же улице и автобус идет. И остановка рядом „Вайгач“.
Я нашел дом, все было задраено, но похоже, что в той отдельной комнате живут. Я сел в автобус и поехал к вокзалу. Надо было еще зайти к дяде Ване Кузину (стр. 518). Пошел, но у них тоже было заперто. Куда, мол, бедному крестьянину податься? Пошел на ул. Литвинова к Вас. Александ. (стр. 506).
Дуняша была во дворе. Как, мол, насчет переночевать? Старуха потащила меня домой. Вообще-то, говорит, негде, потому что приехали четверо украинцев с фруктами (они все время пускают этих спекулянтов), но уж если крайность, то найдем. Уйду, говорит, к соседке, а вас с Васей положу… Да нет, мол, сильной крайности нет. Ну, поболтали. Потом я ушел. Решил идти в Гордеевку, там живет один парень, который был у меня грузчиком, когда я работал на фабрике „Смена“, — Лешка Купрюшин. Может, он, мол, поможет чем. Должен знать,
что к чему. Пошел туда. У Хлебозавода взял трамвай, а то устал бегать. Сначала было немного поплутал, но потом вышел на истинный путь и дом нашел.
Времени было два, наверно, мол, на работе. Открыл калитку ворот — оттуда, оря, ринулись псы. Один-то вшивый, маленький, а один, что волк — овчарка. Я проворно захлопнул калитку и стучал. Выскочил сам Лешка. Псов разогнал и вышел. Ба, говорит, кому не пропасть! Я зашел и с ходу изложил дело. Лешка был
под мухой и собирался идти на работу во вторую смену — он уже работает на утилькомбинате слесарем.
Хороший, говорит, ты друг, надо помочь тебе. Есть какая-то бабка у него в Копосове, надо вот к ней. Мы с ним пошли на „утиль“, он отпросился ввиду приезда „брата“ (кстати, мы похожи с ним несколько), вместо него остался на вторую смену парнишка Олег, который просил только принести ему в 6 ч. поесть. Не переставая разговаривать, пошли к нему. Надо, говорит, занять у соседки трешницу на бутылку… Не надо, мол, у меня есть, возьмем. Только в случае, если не хватит на билет, добавишь. Конечно, я нисколько не был расположен к выпивке, но что же сделаешь, раз такой дурацкий обычай. Пошли в магазин. Я взял бутылку „Московской“, и осталось у меня копеек 60. Дам, слышь, доехать.
В половине четвертого должна была прийти его жена, но что-то не было. Лешка пока затоплял печку, чистил картошку и заваривал суп. Уже в пятом часу пришла Катя с сынишкой Сережкой. В восторг она при виде бутылки не пришла. Пока они занимались с Лешкой по хозяйству, я читал с Сережкой книжки. Ему пять лет,
но он здорово выучил стишки из книжки. Славный пацаненок.
Наконец нарезали хлеба, копченой селедки, и можно было приступить к вкушению зелия. Был уж шестой час, а я, кроме утреннего чая, ничего еще не брал в рот. Боялся, что с первой же стопки полезу под стол. Но ничего. Только выпили, как явился дядя Вася — отец Лешки. Это потомственный ломовик, все время держит лошадь, упряжь и работает с ней на разных небольших предприятиях. Его нанимают вместе с лошадью. Много таких в Горьком. Дядя Вася тоже работал на „Смене“. Ему налили немного, он выпил вместе с нами, я больше нажимал на суп-щи, и старик обижался на кого-то, что забили восемь лошадей на мясо и он не успел обменять. И вообще ругался чего-то. Посидели мы так, потом лошажий воздыхатель ушел, мы попили чаю, и Катя пошла стелить постели. Меня хотели положить на диване, но Лешка почему-то велел класть меня на их кровать, а они — на пол. Легли мы… в конце седьмого! Не сказал об их доме — он у них самодельный, засыпной. Изнутри обит фанерой. Печка. Ничего так.
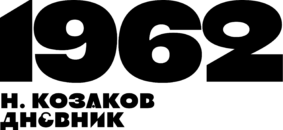
№3
№1
№2
ИЮЛЬ
ЯНВАРЬ
МАРТ
Кстово — Кадницы, Горьковская область
Горьковская область – Москва
г. Челкар Казахской АССР —
Горьковская область —
Харьков
„А какие, наверно, прелестные
были древние эллинки!“
„Я радостно
забормотал: «Оkay,
okay, one picture»“
„Мотоцикл,
почувствовав свободу, весело бежал“
32 мин. 36 сек.
24 мин. 40 сек.
26 мин. 46 сек.
№4
№5
№6
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
Кстово — Кадницы — Горький
Подрезково — Кадницы, Горьковская область
Кадницы, Горьковская область
„Позавтракав, я взял карандаш и стал обдумывать злобо-дневное стихотворение
на кубинскую тему“
„Пришлось достать
сигару «Гавана»
и закурить“
„После завтрака
я пошел загорать“
26 мин. 31 сек.
10 мин. 53 сек.
22 мин. 24 сек.
№7
№8
№9
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
КРУГЛЫЙ
СТОЛ
Кадницы — Кстово — Горький
Горький — Кстово — Кадницы
6 / XI • 2017
„Праздник кончился,
год 1962-й ушел, а ничего не изменилось. Только что заменили отрывные календари...“
„Я читал и начинал
улыбаться. Все-таки судьба не оставила
меня без праздника“
24 мин. 30 сек.
36 мин. 14 сек.
23 мин. 7 сек.
НИКОЛАЙ КОЗАКОВ. ДНЕВНИК. 1962
Звукорежиссер К. Глущенко
Диктор Ю. Ковеленов
Редактор Е. Чучалина
Технический редактор Т. Леонтьева
Звукооператоры: С. Авилов, Р. Хусейн
Арт-директор: К. Глущенко
Иллюстратор: А. Колчина
Дизайнеры: А. Глушкова, А. Московский
Сайт разработан на платформе Verstka.io
NIKOLAY KOZAKOV. DIARIES. 1962
Director K. Gluschenko
Speaker Y. Kovelenov
Editor E. Chuchalina
Technical editor T. Leontyeva
Recording engineers: S. Avilov, R. Khuseyn
Art Director: K. Gluschenko
Illustration: A. Koltchina
Designers: A. Glushkova, A. Moskovsky
Site was developed with Verstka.io
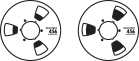
Запись произведена на пленку Quantegy на 24-дорожечном аппарате Studer A820 с использованием
микрофона Neumann U67.
Recording is made on Quantegy tape with 24-channel
Studer A820 using Neumann U67 microphone.
© ГЛУЩЕНКОИЗДАТ, 2016–2017
Студия звукозаписи „Параметрика“. Запись 2016 г.
Проект подготовлен совместно с фондом VAC
в рамках выставки „Прекрасен облик наших будней“
Заказ № 153. Москва, Северное Чертаново, 2017 г.
Order № 153. Moscow, 2017
© GLUSCHENKOIZDAT, 2016–2017
Recorded in Parametrika Studio in 2016
The project was prepared jointly with the VAC Foundation within the framework of the exhibition
"Our Days Are Rich And Bright"
